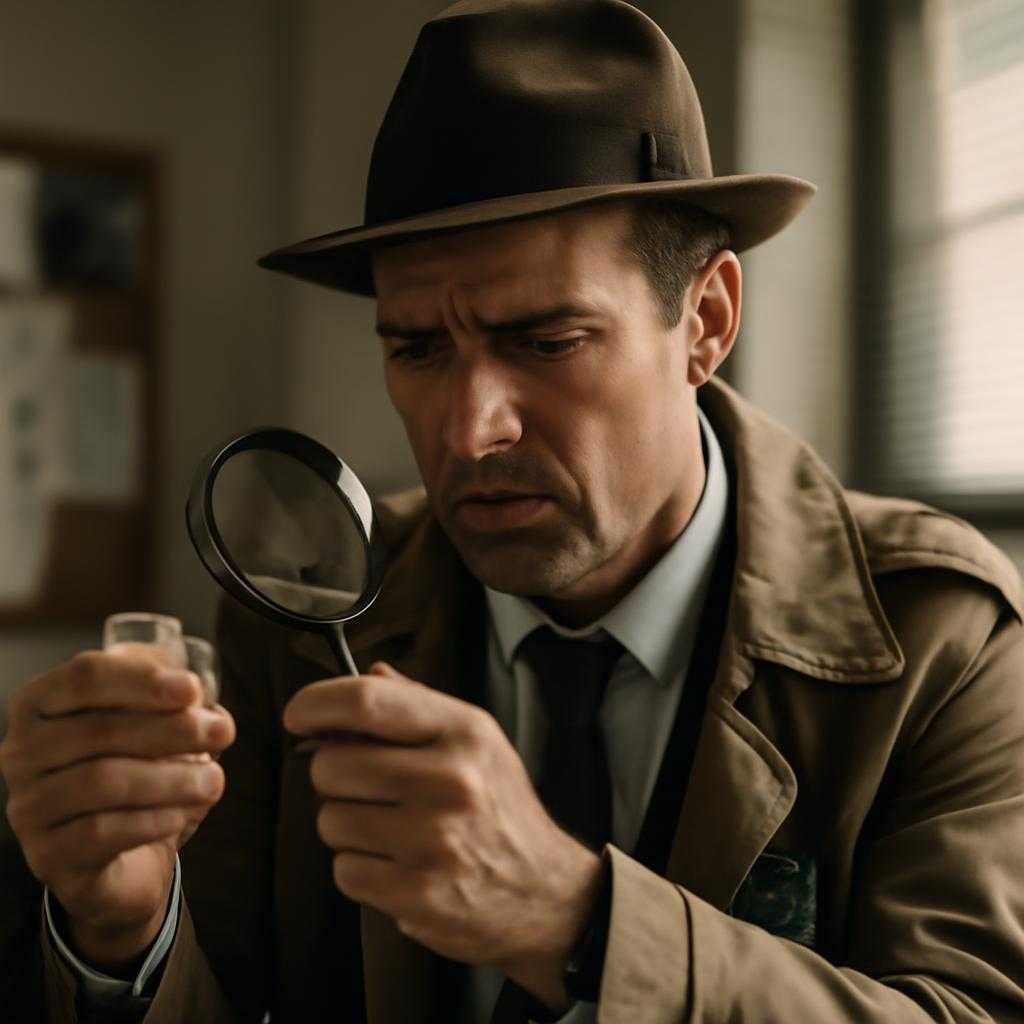Как неонатолог с пятнадцатилетним опытом, я встречаю асфиксию у младенцев примерно в пяти процентах родов. Состояние выражается тяжёлой гипоксией, когда тело ребёнка на старте жизненного пути будто попадает под стеклянный колпак без доступа кислорода. Грааль объёмного дыхания недоступен, обмен газов замирает, ткани переходят на анаэробные рельсы, кровь закисляется.
Факторы, приводящие к такому сценарию, многочисленны: хроническая плацентарная недостаточность, инфицированные околоплодные воды, узел пуповины, материнская гипотензия. Подобный перечень подчёркивает значение антенатальной охраны здоровья.
Патогенез
При длительном кислородном голодании клетки переходят на гликолиз. Лактат за считанные минуты достигает токсической кюветы, pH крови падает ниже 7,0. Кардиомиоциты отвечают брадипноэ, сосуды лёгких спазмируются, развивается правожелудочковая недостаточность. Термин «грауэршниц» — немецкая метафора для сероватого оттенка кожи при критической гипоксемии — точно описывает внешний вид младенца.
При затянувшемся процессе — гипоксически-ишемическая энцефалопатия класса III, порой сопровождающаяся судорожным статусом и квиэсценцией (период мнимого улучшения перед ухудшением). Одновременно в крови накапливается метгемоглобин, снижая транспортную функцию эритроцитов.
Клиническая картина
Сразу после рождения дыхательные движения отсутствуют либо поверхностны, сердечный ритм менее 100 уд/мин, тоны приглушены. Рефлексы слабые, кожа пепельно-серого оттенка. По шкале Апгар новорожденный набирает 0–3 балла. При аускультации лёгких слышен редкий инфантильный стон, напоминающий тихое скольжение шёлка. В отсутствие помощи через три-четыре минуты наступает тонический спазм диафрагмы, потом агональное дыхание, затем асистолия.
Позднее, если ребёнок пережил первичную фазу, прослеживаются признаки много органной дисфункции: олигурия, пекацидоз, нарушение перфузии кишечника вплоть до некроза. Наблюдается миоклония, центральная гипотермия, всплески трансаминаз.
Неотложная помощь
Алгоритм ABC здесь превращается в ACB: сперва очистка дыхательных путей, затем компрессия грудной клетки при необходимости, вентиляция объёмом 20–30 мл. Применяю маску с положительным давлением 25–30 см вод. ст., добавляю 100 % кислород лишь после оценки парциального давления. При сохранной брадикардии выполняю непрямой массаж частотой 120 нажатий в минуту, чередуя с двумя инспирациями. При рН ниже 7,15 вводится бикарбонат натрия 4,2 %. Адреналин 10 мкг/кг подкожно неэффективен, поэтому используют внутривенный болюс 0,01 мг/кг.
После восстановления спонтанного дыхания перевожу младенца в режим гипотермической седации, снижая температуру ядра до 33,5 °C на 72 часа. Такая стратегия уменьшает вероятность тяжёлой ГИЭ почти вдвое. Дальнейшее ведение включает высокочастотную вентиляцию, контролируемую гиперкапнию, мониторинг амплитуд-интегрированной ЭЭГ.
Подобная чёткая и быстрая тактика — маяк на штормовом перинатальном море. Грамотная профилактика во время гестации, полноценный кардиомониторинг в родзале и адекватная послеродовая реанимация минимизируют летальность и предупреждают когнитивные нарушения, которыми запоминается гипоксия у спасённых детей.